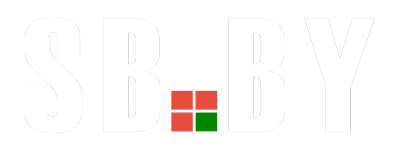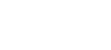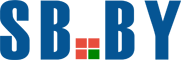А западные державы, те самые развитые государства, апологеты либеральных теорий, чем занимаются? В той же Европе. Национализируют некоторые активы, другие — пытаются поставить под контроль, изымают суперприбыль генерирующих компаний (по большому счету справедливо, но не рыночно), пытаются установить лимиты на потребление (пока больше неформально) и ограничивают тарифы, а также выделяют субсидии… Конечно, экстренные меры можно оправдать энергетическим кризисом. Но в том-то и заключается принцип рыночности, который долго и упорно проповедовали на нашей территории, что некая «саморегулирующая рука» ликвидирует все диспропорции. Надо только подождать, посмотреть, пока спрос и предложение сбалансируются сами собой.
В теории так оно и есть. На практике баланс тоже может наступить. Только Европа уже потеряла приличную часть своей промышленности. Поэтому и включила рычаги регулирования. Точнее — пытается это делать. Штука-то в том, что на высоких ценах на газ и электричество зарабатывает достаточно много компаний и трейдеров. И хотя президент Франции Эммануэль Макрон кричит о неподобающем и нерыночном поведении американских добывающих компаний, которые продают газ своим потребителям в четыре раза дешевле, чем Европе, то тут еще надо разобраться, кто виноват. Редкий случай, когда американцы могут оказаться-то и ни при чем. Ведь не напрямую же в ЕС газовые компании поставляют свою продукцию. Они реализуют ее трейдерам. В том числе и европейским. Вот у своего бизнеса и следовало бы и политикам, и потребителям спросить, с какой колокольни свалились такие высокие цены на кубометр топлива. Впрочем, факт примечательный: Париж обвиняет Вашингтон в нерыночности и нарушении принципов конкуренции.
В определенной степени вполне законно. Чем занимается великий противник вмешательства государства в экономику Джо Байден? Второй год то и дело выбрасывает на рынок партии нефти из стратегических резервов, чтобы сбить цены. Более того, заняться тем же самым подбивал в прошлом году Японию, Южную Корею и даже Китай. Правда, безуспешно. Но попытка-то была. И где в этой инициативе просматривается соблюдение чистоты рыночных принципов? А как объяснить бесплодные попытки надавить на Саудовскую Аравию и другие государства Персидского залива, чтобы они увеличили добычу нефти? Тоже так себе действие с точки зрения либеральных идей. Впрочем, как и попытки введения потолка цен на российскую нефть и газ. Господа, да это попытка манипулирования чистой воды.
Термин «рыночный» уже, по сути, является артефактом. Он обладал значением и торгово-экономическим наполнением во времена глобализации, когда все страны рвались на международные рынки и на них выстраивались длинные промышленно-логистические цепочки. И всем производителям хотелось в них встроиться. А международное законодательство развивалось в сторону исключения дискриминаций в международной торговле. Развивалась Всемирная торговая организация. И статус «рыночной экономики» становился в том числе и входным билетом для вступления в ВТО. И где сегодня ВТО? Де-юре она существует, де-факто уже является атавизмом. И в таковой эта уважаемая организация превратилась даже не вчера, а начала свое падение еще во время мирового финансового кризиса и дальше покатилась по наклонной. С конца 2010-х неизменно увеличивалось количество различных мер протекционизма, которые вводили все без исключения страны. Причем, как ни парадоксально, больше всего различных ограничений касалось именно ключевых товаров. Например, сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. А сейчас мы вообще наблюдаем парад санкций, которые не вписываются ни в какие ворота правил международной торговли. Впрочем, уже тяжело говорить, существуют ли они. Законы актуальны ровно до тех пор, пока их соблюдают. Но этого делать никто и не собирается. Прежде всего — западный мир. Экономические взаимоотношения плавно из правового поля, основанного на консенсусе, перетекли в плоскость «взаимного ответа». Какие-то рамки приличия соблюдаются исходя не из каких-то международных норм, а из опасений ответных мер. Как в известном фильме: «а если не будут брать, отключим газ». Возможно, европейские политики зашли бы намного дальше в части экономической изоляции восточных оппонентов, но их смущает перспектива остаться без энергоносителей. Поэтому какой-никакой диалог (хотя в очень зауженном формате) и торговля еще поддерживает.
Справедливости ради надо сказать, что статус «рыночности» экономики влияет в США на методологию при проведении антидемпинговых расследований. Если поставщик из «рыночной» страны, то оцениваются его издержки. А если из «нерыночной», его цены и себестоимость сравнивают с аналогичной продукцией из других стран. Впрочем, чем может это повредить российским поставщикам, сказать сложно. Из-за тысяч наложенных рестрикционных ограничений товарооборот с США находится на историческом минимуме.
Впрочем, насколько сегодня актуальны антидемпинговые расследования вообще, сказать сложно. Это в былые времена они являлись дамокловым мечом. Сегодня большинство стран заинтересованы не столько в поддержке собственных производителей и защите рынка, сколько в продукции, и желательно по низким ценам. Желательно — ниже рыночных. Европа очень хочет покупать газ и нефть из России (и не только России), но по стоимости ниже, чем сложилась на бирже. Это же касается и другой продукции: металлов, зерна и так далее. В том числе и готовой продукции. Нынче всех беспокоят дефицит и высокие цены на чипы, автомобильные комплектующие и множество других товаров. Ключевая проблема многих экономик — высокая инфляция. И дешевый импорт может сбить рост цен.
Собственно говоря, складывается впечатление, что некоторые европейские и американские политики живут представлениями из прошлого века. Когда мировая экономика быстро росла, многие сегменты находились под перманентной угрозой перепроизводства, активно формировался глобальный рынок и крупные корпорации из всех регионов старались завоевать на нем долю побольше. Для этого они были готовы даже демпинговать, надеясь на увеличение продаж и компенсацию за счет этого в будущих периодах. Сейчас мировая экономика переживает спад, по многим товарным позициям наблюдается дефицит, из-за логистических, политических и других проблем мировая торговля переживает глубокую трансформацию. И само понятие «рынок» уже отсутствует в том смысле, который в него некогда вкладывали. Мировая экономика входит в стадию регионализации. И сегодня правила, писанные западным миром, волнуют компании других регионов постольку-поскольку. ЕС и США уже не являются столь перспективными рынками для развития. И драйвер роста лежит уже не в глобальных конструкциях, а в региональных. И значения приобретают договоренности на этом уровне.
Впрочем, в Вашингтоне и Брюсселе могут продолжать тешить себя надеждой, что они еще руководят или как-то значимо влияют на глобальную экономику. Питать иллюзии никому не запретишь. Хотя прагматики понимают: Западу пора оставить свои былые экономические имперские амбиции в прошлом и пытаться в нормальном режиме вырабатывать правила игры в новом мире. Или эти самые правила будут выработаны без него.Как с теми же энергоносителями: итогом стало не подчинение желаниям развитых стран, а трансформация поставок энергоносителей, в результате которых без них остался именно Запад.
volchkov@sb.by